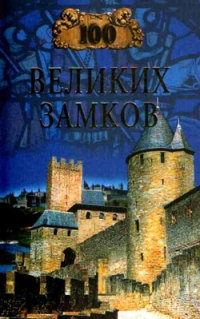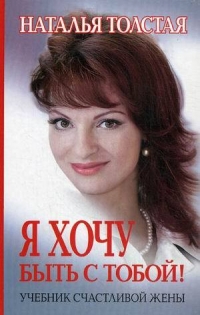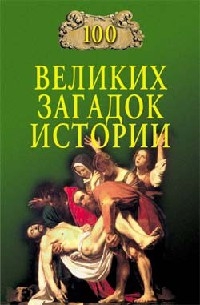Трагедия Балакирева, или шуты и шутихи в русской истории[25]
В сознании русского народа сохранилось убеждение, что смех продляет жизнь, а мы вслед за великим Рабле можем сказать, что смех лучше слез… Эразм Роттердамский в «Похвале глупости» уверял, что боги на Олимпе и те не обходились без шуток, проказ и проделок своих шутов. Разгоряченные амброзией и нектарами небожители с удовольствием созерцали уморительные проделки козлоногих сатиров и Пана, слушая их скоморошьи песни. Даже хромой Вулкан своим шутовством заставлял бессмертных обитателей Олимпа от души посмеяться и забыть на время свои проблемы.
Видимо, подражая богам, люди быстро переняли их обычаи – содержать в домах шутов, уродцев и карликов. В древнем Египте, Греции, Риме, Византии, Англии, Франции и России с незапамятных времен шут был персонажем шумного застолья, празднеств и пиров. Отсутствие шутов считалось плохим предзнаменованием для хозяина…
Шуты в России, тем более при царских дворах – люди особые. Многие из них, как свидетельствует история, были личностями запоминающимися, самобытными, и рассказы о них надолго сохранились в памяти народной. Одно из первых упоминаний о русских шутах относится к 1068 году в «Повести временных лет», где, между прочим, говорилось: «Видим… игрища утоптанные, с такими толпами людей на них, что они давят друг друга… а церкви стоят пусты».

Ледяной дом. Картина В.И. Якоби. 1878 г.
Русский шут был главной фигурой на фоне плясунов, фокусников, акробатов и ученых медведей. При этом основным качеством шута было не столько умение балагурить и шутить, сколько обескураживать и высмеивать злое и лживое, что особенно ценилось в русском народе. Он одинаково должен быть уметь и шутить с толпой, и отшучиваться от царя. По не писанному закону царь шутов не наказывал строго («Шут с ним, что с него взять!»). Поэтому те, будучи «в образе», могли передразнить, посмеяться и быть довольно смелыми даже с коронованными особами. Сложнее было шуту с царским окружением, царедворцами, себялюбцами, чванливыми, спесивыми и злопамятными боярами и знатными дворянами. Веселя других, шут всегда должен был помнить пословицу: «Не шути над тем шуток, кто на каждое слово чуток». (Это, впрочем, остается справедливым и по сию пору.)
Любопытно, что поговорка «По усам текло, а в рот не попало!» обязана своим происхождением именно шутам. Дело в том, что во время застолий шуты, все время побуждающие гостей к смеху, создающие веселье, часто за свои остроты принимали на себя выплеснутое из кубков и бокалов вино от осмеянных, рассерженных и обиженных. Неудивительно, что к разгару веселья некоторые шуты становились насквозь мокрыми. А потом, рассказывая о царском пире, они с полным основанием могли сказать: «И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало!» Несомненно, шуты подарили народу и множество других прибауток, потешек, скороговорок и загадок.
С давних времен на святках и масленицу шуты обматывались густой гороховой соломой и одевали какую-нибудь маску, называемую «харей» (от греч. «харея» – голова). Часто шуты водили за собой медведя или козу и были особенно желанны на свадьбах и других народных праздниках. От гороховой соломы пошло и известное народное прозвище «шут гороховый».
Царские шуты
У русских царей было много шутов, но достоверных сведений о них сохранилось мало.
Итак, известно, что у царя Ивана Грозного в 1569 году при дворе появился шут Осип Гвоздь. Он был средним сыном князя Приимкова-Ростовского и славился в народе соленым остроумием и веселым нравом, за что и получил прозвище «Гвоздь». Иван Грозный оценил его талант по-своему, приказав быть шутом. Вместе с указом, запрещающим носить оружие, Осипу вручили колпак с нашитыми на него ослиными ушами и серебряными бубенцами. Когда царь из загородного дворца въезжал в Москву в сопровождении трехсот стрельцов, впереди на огромном быке и в золотых одеждах ехал шут Осип Гвоздь. Но в этом звании он пробыл недолго.
Перед иноземными послами, захмелев, Иван Грозный иногда начинал хвалиться, что его род Рюриковичей якобы ведет начало от Августа-кесаря, Римского императора. Возможно, неосторожная шутка по части столь сомнительного родства и ввела в неправедный гнев царя. Существует документальное свидетельство толмача (переводчика) Альберта Шлихтинга, уроженца Померании, взятого в плен у крепости Озерище, который семь лет находился при Иване Грозном и подробно описал ужасную сцену убийства царем своего шута.
«У тирана было два родных брата Гвоздевы. Один из них был начальником при дворе, другой же часто имел обычай потешаться и шутить за царским столом… Однажды, когда он особенно прибегал к шуткам, тиран велел ему отойти от стола и тем временем приказал принести кипящие щи. Затем тиран велел его позвать и подойти поближе. Как только тот подошел и склонил голову (в поклоне), тиран опрокинул ему на голову эти кипящие щи с капустой. Тот закричал от боли: «Помилуй ради бога, величайший царь!» и побежал от стола, но тиран, выхватив нож, догнал Гвоздева, схватил за руку и вонзил в него свой нож. От полученной раны тот упал. Его подхватили и вынесли на двор.
Тиран вскоре стал раскаиваться в своем поступке… и позвал врача, велев заняться врачеванием. Однако врач нашел его уже мертвым. Вернувшись, на вопрос царя он ответил: «Бог лишь единожды вкладывает в человека душу, и коль она его покинула, то никому не дано призвать ее обратно». Тиран, досадливо махнув рукою, проговорил: «Так пусть дьявол приберет его, раз он не пожелал ожить!»»
На смену Осипу Гвоздю пришли шуты братья Прозоровские, которые забавляли царя тем, что устраивали потасовку с огромным медведем. Причем медведь, вероятно хорошо обученный этому, как бы защищая одного из братьев, боролся, стоя на задних лапах, кусался не сильно, но в клочья рвал одежды на другом. Затем «суд» из бояр или гостей под хохот царя и присутствующих присуждал медведю победу…
Любопытно, что выражение «шиворот-навыворот» своим происхождением обязано царю Ивану Грозному и придумано им самим.
Желая подвергнуть позору кого-либо из провинившихся перед ним бояр, царь, стукнув кулаком по столу, приказывал опричникам: «Геть ослушнику шиворот-навыворот!» Несколько сильных рук хватали боярина за ворот одежды и быстрым рывком выворачивали ее наизнанку («шиворот-навыворот») и под гиканье и смех вновь надевали на голое тело несчастного. Затем опозоренного боярина сажали на хромую лошадь лицом к хвосту и в таком виде возили по Москве. Не поэтому ли всегда боялись позора и бесчестия русские люди больше смерти?
Шло время. Менялись цари, менялись шуты, менялись нравы. Русский царь Алексей Михайлович весьма благоволил к своему шуту Ивану Андреевичу Жировому-Засекину, которого в 1676 году даже возвел в дворянское достоинство. Шут был на редкость добродушен, знал много прибауток, поговорок, потешек. Преобразователь России Петр Великий также любил шутов. Подаренный ему в детстве карлик Еким Волков по прозвищу «Комар», по его словам, во время стрелецкого бунта в 1698 году спас ему жизнь, предупредив о смертельной опасности. Кроме того, он часто давал весьма дельные советы, ибо был смышлен и наблюдателен. Кроме Екима Волкова, при дворе Петра обычно находилось еще 30—40 «карлов и карлиц» (лилипутов), которых царь охотно принимал. Одетые по моде, в напудренных париках, накормленные и ухоженные, одновременно и беззащитные, они были очень забавны. Оживленно щебеча, они окружали царя. Петр, попыхивая голландской трубочкой, брал кого-нибудь на руки и затевал нехитрый разговор. Морщины на его лице разглаживались, он невольно добрел…
Нынешние врачи могли бы сказать, что шуты бесспорно помогали Петру снимать жесточайшие стрессы. Однако следует отметить, что шуты при дворе Петра выполняли и другую весьма важную социальную функцию.
При помощи шутов он боролся с вековым затворничеством у русских в пределах собственного двора, чванством, барством, взяточничеством, как среди своего окружения, так и среди широких слоев россиян. Благодаря шутам он во многом одолел неприятие просвещения. Он знал, что указами, батогами, вырыванием ноздрей и ссылкой в Сибирь всего враждебного ему не сокрушить. Но очень много может сделать меткое слово, сказанное шутом.
В новом, 1700 году, Петр справил шутовскую свадьбу шута Якова Федоровича Тургенева, которого сам сосватал за дьячиху. В 1702 году справил свадьбу «многоутешного и остроумнейшего» шута Феофилакта Шанского, которая сопровождалась большим количеством насмешек над старыми обычаями. Иван Федорович Ромодановский в старом одеянии изображал «царя», «царицей» была дородная Бутурлина, а «патриархом» или «папой» был учитель Никита Моисеевич Зотов.
В разгар свадебного застолья бывший в числе гостей Петр в форме морского офицера вместе с шутами принял живейшее участие в пострижении бород именитым боярам.
Полный титул «князь-папы», как и устав «сумасброднейшего, всешутейшего и всепьянейшего собора», придумал сам Петр, и Зотов, будучи в подпитии, никак не мог его выговорить. Титул был такой: «Всешутейший отец Иоаникт, Пресбургский, Кокуйский и Всеяузский патриарх».
«Князь-папа» издавал шутовские указы, жаловал, наказывал, миловал. Под указами ставил огромную подпись, написанную латинскими буквами.
В шутовских мизансценах или «действах «Князь-папы»», весьма забавлявших гостей, частым партнером была шутиха Анастасия Прозоровская (впоследствии вышедшая замуж за князя И.А. Голицына), носившая титул «князь-игуменьи». Она комично изображала хитрющую, голосистую и бойкую на язык бабу. В разгар веселья «всешутейшего собора» она начинала приставать к «князь-папе» с просьбами набраться премудрости из огромной Библии, которая всегда была при Зотове и в которую он время от времени заглядывал.
Это была большая деревянная книга, имитирующая Библию, где за несколькими листами малоразборчивого церковнославянского текста, в ковчежках спрятаны были фляги с горячительными напитками. Эта «книга» величиной около 1 метра сохранилась в музее Кремля в Москве.
После ряда хитростей шутиха Прозоровская овладевала «книгой», обнаруживала фляги с «псалмами», знакомилась с содержанием их, давала каждому «аннотацию», находя некоторые «зело мудрыми».
Между тем «князь-папа» приходил в себя, обнаруживал пропажу и пытался выяснить у присутствующих, куда запропастилась «книга». Выслушивал советы, где искать, на чьем подворье, при этом характеризуя многих староверов-бояр или купцов как противников истинной веры и т.д., пока не находил ее у «князь-игуменьи».
После короткой ссоры они мирились и затем принимались читать «книгу» вдвоем, соревнуясь в остроумии…
Пожалуй, в указах «князь-папы» чаще других был наказуем Петр, никогда не хмелевший и имевший самую низкую должность «протодиакона собора». Другие его соратники: Хилковы, Репнин, Прозоровский, Мусин-Пушкин, Головин, Тургенев, Колтовский, Воейков, Юшков были много выше чином, а Ромодановский и Бутурлин даже были жалованы шутовскими званиями «генералиссимусов». В шутливой форме Петр писал «князь-папе»: «В последнем письме изволишь писать про вину мою, что ваши государские лица вместе писал с иными. И в том прошу прощения потому, что корабельная наша братия в чинах не искушена».
И вот здесь мы подошли к еще одному чрезвычайно важному обстоятельству. Петр нанес сокрушительный удар местничеству при помощи «философии смеха», с опорой на шутов, тому местничеству, которое на протяжении столетий до уродливости выпячивало знатность боярских фамилий, образуя замкнутый круг, распространяя притязания и споры – от места за столом до военных должностей во время войны.
Интересно, что Фридрих фон Бергхольц, автор знаменитых дневников, без которых не обходится ни один историк, занимающийся эпохой Петра, первый заподозрил, что «всешутейший и сумасброднейший собор» не такой уж «сумасброднейший», и что Петр преследует какую-то далеко идущую цель. Рассуждая о значении «пьяной коллегии», он писал:
«Поводом к учреждению ее царем был, говорят, слишком распространившийся между знатными лицами порок пьянства, который он хотел осмеять и вместе с тем предостеречь последних от позора…»
Местническими притязаниями, доходящими до абсурда, славились Бутурлины, чей род был известен еще при Александре Невском и Дмитрии Донском. Самым склочным был Федор Васильевич Бутурлин, живший при царе Алексее Михайловиче (о проделках его не мог не знать Петр).
Впрочем, ему мало уступали и другие Бутурлины.
Поэтому весьма вероятно, как считают некоторые историки, что «Собор» и «Коллегия» были придуманы Петром и удачно им использованы как средство борьбы с местничеством и другими пережитками, где самые именитые когда-то, но склочные бояре оказались в самой неприглядной «дурацкой» роли. Особенно досталось последнему «князь-папе» Ивану Бутурлину, который, обрюзгший и распухший непомерно от обильных возлияний, скончался 22 августа 1723 года.
Конечно, некоторые из окружения Петра догадывались, что он высмеивает их перед русской нацией, и под разными предлогами стали уклоняться от участия в «сумасброднейшем соборе».
Загадка шута Балакирева
До сей поры не предпринималось сколько-нибудь серьезного исследования жизни знаменитого шута Ивана Балакирева (1699—1763), не сохранилось даже его достоверного живописного портрета. Отчество его в литературе тоже дается по-разному: то Иван Алексеевич (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона), то Иван Емельянович.
Об Иване Балакиреве известно много анекдотов, но, к сожалению, большая часть их появилась через 67 лет после его смерти, после выхода в свет книги писателя К.А. Полевого в 1830 году под названием: «Собрание анекдотов Балакирева». В эту книгу вошло много историй, увы, не имеющих отношения к главному герою.
Плохую службу сослужила и вторая книга, вышедшая в Москве в 1888 году: «Собрания точных сведений о весьма замечательной личности и самой жизни бывшего при дворе Петра Великого шута Балакирева, сведения и о его сыне, и все анекдоты его», в которой было все, что угодно, кроме «точных сведений» о нем. Книга представляла собой весьма посредственную компиляцию историй с шутами, их проделки, остроты при дворах европейских монархов, которые скопом приписали Балакиреву, слегка их подредактировав.
Поэтому в который раз возникает вопрос: «Кто же такой шут Балакирев?»
Историкам известно, что Иван Алексеевич Балакирев родился в 1699 году в семье Костромского дворянина. В возрасте десяти лет он согласно заведенному порядку был представлен на смотр Петру и определен в Преображенский полк. После короткого разговора Петр узнал, что мальчик обучен грамоте и смышлен, после чего ему велено было обучаться инженерному искусству. В 1703 году Ванечка Балакирев уже был хорошо известен среди крестьян и в Хутынском монастыре как молодой и веселый стряпчий, ведавший сбором подушных денег. Историк М.Н. Семевский в книге «Семейство Монсов» сообщает, что он уже тогда был «неисчерпаемой веселости характера и в остроумии, в находчивости и способности ко всякого рода шуткам и балагурству он нашел талант принять на себя шутовство…»
Знатоки русской старины В.П. Клюшников и П.Н. Петров говорят, что Иван Балакирев взят во дворец в качестве шута самим Петром, когда он вновь, как дворянский сын, был призван в Преображенский полк в возрасте 20—21 года. Произошло это при обстоятельствах не совсем обычных, не ранее 1719 года.
Молодой солдат Балакирев был поставлен на берегу строящегося канала вблизи дворца Екатерины. Изнывая от жары, он решил искупаться. Но едва разделся и влез в воду, как увидел, что по берегу с тростью в руке размашистой походкой идет царь. Сообразив, что за самовольное оставление поста Петр строго с него взыщет, он пулей выскочил на берег. Грозный царь быстро приближался, и времени одеться не было. Тогда солдат Балакирев надел парик и треуголку, наспех перебросил через плечо патронташ и, взяв ружье, замер, отдавая честь. На строгий вопрос Петра: «Что случилось?» Балакирев, несмотря на отчаянное положение, оставаясь мокрым и голым, не моргнув глазом, отвечал, что «исследовал пост и изучал обстановку в реке». Военный устав, написанный самим Петром, гласил, что тот, «который караул свой прогуляет, тот на теле (бит батогами), а кто оной просмотрит – смертельно казнен да будет». Балакирев этот пункт хорошо знал, однако попробовал отвести беду, «уложив свой грех в веселый смех». И природный юмор, и присутствие духа сделали свое дело. Долго крепившийся Петр не выдержал, солдат Балакирев рассмешил-таки его. «Грешить легко – трудно каяться», – наконец сказал он. Указал тростью на кусты, где висел мундир Балакирева, велел ему немедленно одеваться и следовать за ним во дворец.
Видимо, и там Балакирев не растерялся и после рассказа Петра, пребывавшего в хорошем расположении духа, сумел изрядно позабавить Екатерину и Меншикова находчивыми ответами, и его решили оставить при дворце. Однако он сумел отстоять себе право быть при военном мундире, получать жалование и не иметь при этом никакой должности! Во всяком случае, будучи шутом, он по документам того времени таковым не числился. Похоже, Петр, по аналогии с самым первым шутом, упоминаемым у Гомера в «Илиаде», под именем Ферсита-воина, оставил Ивана Балакирева в том же качестве.
Но, несомненно, появившись при дворе как «шут и в мундире», он должен был выдержать своеобразный «конкурсный экзамен» с уже «аккредитованными» шутами-старожилами, каковыми являлись Антоний Педрилло, выходец из Флоренции, приехавший в Россию в начале века, или итальянец Ян Лакоста (д’Акоста), довольно образованный шут, знавший несколько языков, любивший заводить с Петром богословские споры, не лишенные, впрочем, ума и тонких замечаний. При этом он обычно, пользуясь церковной богословской казуистикой и риторическими приемами, подводил свои суждения к неожиданным смешным умозаключениям, что особенно нравилось Петру. В 1717 году Ян Лакоста принял православие, проиграв Петру в споре, но выпросил себе право называться «главным шутом». В 1723 году ему был «высочайше дарован» дикий и необжитый крошечный остров Гохланд и титул «короля самоедского». В связи с чем Лакоста стал появляться на застольях в высоченной короне из жести, всегда сдвинутой на одно ухо.
Что касается шута Антонио Педрилло, то он исполнял должность распорядителя неучами и бездельниками. Возвратившихся из-за границы недорослей Петр обыкновенно экзаменовал сам. Провалившихся на экзамене он отправлял к шуту в «дурацкую команду». Педрилло тут же находил им работу, определял в помощь конюхам, водовозам и истопникам.
Сохранилось описание типичного шутовства молодого Ванечки Балакирева на ассамблее во дворце у Меншикова. Балакирев неожиданно, в разгар музыки и танцев, появился в длиннополом боярском кафтане и грохочущих сапогах и с подвязанной длинной бородой. На голове была огромных размеров меховая шапка, все время сползавшая ему на глаза. Дамы и кавалеры с веселым смехом окружали Балакирева и затевали с ним разговор. Балакирев незлобливо шутил, прохаживался с важным видом по ярко освещенным залам, все время поглядывая на большие двери, где должен был появиться Петр.
Наконец в сопровождении Екатерины и Меншикова, выделяясь огромным ростом и острым взглядом, входил царь. Дамы и кавалеры склонялись в изящном и грациозном поклоне. Петр легким поклоном, с поворотом головы попеременно налево и направо, проходил по залу, прося молодежь продолжать танцы. Вдруг, словно из-под земли, перед царем вырастал Балакирев. Неуклюже взмахнув руками, он валился в ноги царю. Петр, сразу поняв, в чем дело, хмурил брови и мгновенно включался в импровизацию. Следовал громкий и внятный вопрос:
«Почто валяешься в ногах, аль указу не ведаешь? Встань!»
«Указ знаю, – с уморительной интонацией отвечал Балакирев, – но не встану! Ты сначала ответь, почто рабам твоим нельзя кланяться?»
«Я хочу видеть россиян на ногах, а не ползающих на карачках!»
Далее разговор продолжался в том же духе к удовольствию присутствующих, что, по мнению Петра и Балакирева, должно было служить делу выкорчевывания холопства и других пороков в государстве. Петр осуждал боярский наряд, осуждал ношение бороды, попутно интересовался: заплачена ли казне пошлина за бороду. Ванечка Балакирев, сидя на коленях, принимался считать свои убытки, чесал в затылке и прикидывал, каким ему лучше лечь в гроб: с бородой или без? На что Петр спокойно напоминал, что дубовые гробы им запрещены, ибо дуб идет на строительство флота. После этих слов Ванечка заявлял, что он не враг своему отечеству, проворно сбрасывал жаркую шубу и сапоги, срывал бороду и преображался в бравого и веселого солдата. Петр, довольно улыбаясь, брал Ванечку за плечи и, обращаясь ко всем, говорил:
«Молодому да удалому и радость в руки, и царю отрадно!»
Но выступал Балакирев и в другой ипостати. Подражая народному балагану, он на званых обедах, стоя между столов, извлекал из-под полы «Дормидошу» (вырезанную из дерева и раскрашенную куклу) и начинал веселый диалог, обращаясь, как обычно, сначала к Петру:
«Великий государь! Бьет челом твой нижайший, недостойнейший и подлейший раб, боярский сын Дормидошка, по прозванью Пустая голова.
«Не по форме просишь», – тут же откликался Петр.
«Не по форме? – натурально удивлялся Балакирев. – А вот каравай – он и без формы хорош!»
«Это верно, – смеясь, соглашался Петр. – Спой что-нибудь!»
«Мой голос князь Данилыч оттягал. Его ноне все боятся, а меня только солдат Балакирев. Горло же без голосу, что голова без волосу. И то часто бывает, что по речам человек, по рогам козел, а по уму – осел!»
Судя по некоторым косвенным фактам, князь Александр Меншиков довольно скоро невзлюбил Балакирева явно за шутки в свой адрес. Будучи весьма близким Петру, он бесспорно во многом ему помогал, но притом изрядно приворовывал и всю жизнь страдал непомерным тщеславием. Полный титул его к 1718 году по курьезности напоминал титул «князь-папы» Бутурлина.
Конечно, люди из окружения Петра, зная его слабость, не могли отказать себе в удовольствии позлословить по этому поводу. Не был исключением и Балакирев.
О всех остротах Ванечки подхалимствующие придворные немедленно доносили светлейшему. Меншиков злился и однажды, поймав Ванечку в укромном углу во дворце, пытался его побить, но тот увернулся и убежал. Меншиков погрозил вслед ему кулаком: «Погоди, ужо, я тебе и в гробу все кости переломаю!»
Ванечка, поразмыслив, отправился к Петру, который в это время на токарном станке вытачивал из слоновой кости элементы огромной дворцовой люстры. Петр не любил, когда ему мешали, и, не прерывая занятия, резко спросил: «Не воздыхай, говори, чего пришел?»
«Помилуй, Петр Ляксеич, подари свою дубинку!»
«Изволь, только зачем?»
«Данилыч обещал мне кости переломать, даже в гробу. Так я велю положить ее со мной, когда помру. Глядишь, он побоится меня тронуть».
Петр рассмеялся, поняв, на что намекает Балакирев. За неистребимую привычку запускать руку в государственную казну царь не раз побивал своей дубинкой Меншикова. И это все знали…
Трагедия царя и шута
Естественно, Балакирев не 24 часа в сутки носил личину шута. Большую часть времени он выполнял всевозможные поручения и нес службу при дворце.
Здесь уместно сказать об одной особенности Петра. Он придавал большое значение контролю за исполнительностью в государственных делах. Зная характер многих своих сподвижников, медлительность, себялюбие, а также лень, и вместе с тем поразительное умение оправдываться и на все находить объективные причины, Петр над многими сановниками ставил простого и преданного офицера в небольшом чине, но с большими полномочиями контроля за выполнением своих распоряжений. Не избежал такого «контролирующего» даже фельдмаршал Б.П. Шереметев. Конечно, это многих коробило, но ослушаться царя никто не смел. «Контролирующие» имели право докладывать лично Петру, минуя все инстанции, при малейших признаках уклонения от его распоряжений. Балакирев также стал своеобразным «контролирующим» над временщиками и вельможами при дворце, включая и охрану. Н.И. Панин, хорошо знавший Балакирева уже в преклонные годы, писал: «Его шутки никогда никого не язвили, но еще больше рекомендовали» (характеризовали. – Л.В.).
Однако «язвить» Балакирев перестал после того как побывал на дыбе с вывернутыми руками…
Шел 1724 год. Балакирев уже пятый год как был в Петербурге и нес службу во дворце. Влияние и авторитет России среди европейских государств усилиями Петра и самих россиян стали огромны.
На фоне исторических событий жизнь Балакирева, пожалуй, была довольно сытой и безбедной. Как человек расторопный, остроумный и находчивый, он быстро выдвинулся. Ему стала покровительствовать императрица Екатерина I, сделавшая его ездовым или гонцом, ибо, по давней традиции, шуты развозили царскую почту, записки Петра и Екатерины различным лицам. Сохранилось немало писем Петра к Екатерине, написанных при пламени свечи. Они полны нежности и внимания к ней и детям. Вот типичный тон писем того времени:
«Катеринушка, друг мой сердешнинькой, дай Боже в радости и скоро вас видеть в Питербурхе…»
Последний раз Петр назвал ее «Катеринушкой» 31 октября 1824 года, после чего узнал, что она ему изменяет. Узнал, как и положено мужу, самым последним. И к этому горькому событию оказался причастным шут Иван Балакирев.
Дело Монса
А началось все с того, что Екатерине приглянулся брат знаменитой «Монсихи» (Анны Монс), когда-то первой пассии и фаворитки Петра, вышедшей затем замуж за посла Кайзерлинга.
Ее брат, Виллим Иванович Монс, с 1703 года служил в русской армии, участвовал в нескольких сражениях, в том числе под Лесной и Полтавой. Как исполнительный служака, он привлек внимание Петра и на некоторое время был назначен к нему в адъютанты. Далее благодаря стараниям его второй сестры Матрены Ивановны Балк, прозванной в народе «Балкиной», хорошо знавшей характер Екатерины и многие ее наклонности, Виллим Монс был определен на легкую и очень выгодную работу, которая давала ему изрядный «навар». Он стал управляющим вотчины Екатерины и после коронации по ее ходатайству был произведен (в мае 1724 года) в камергеры. В тот год ему исполнилось 36 лет. Он был довольно хорош собой, вальяжный, улыбчивый и уверенный в себе. Уже не молодой Екатерине он очень нравился. Виллим Монс во время долгих отъездов Петра по делам государства всегда находил предлог, чтобы появиться на половине государыни. Когда его долго не было во дворце, Екатерина слала ему письма с упреками, сообщала, какой костюм будет на ней на «машкераде», назначала тайные свидания.
26 апреля Балакирев из резиденции Екатерины в Преображенском отвез в Покровское к Монсу очередное тайное послание. Через некоторое время в разговоре с обойного дела учеником Суворовым он поведал ему, что не далее как вчера отвез письмо царицы: «Одно синенькое, что и рта разинуть боюсь», – сказал Балакирев, весьма расстроенный и, видно, знакомый с его содержанием.
По закоренелой шутовской привычке он не удержался от подвернувшейся на язык поговорки: «Любовь она, вишь, указу не ведает и царя в дураки поставит».
Однако, видимо, Балакирева не столько потрясла измена, сколько написанный рукой Екатерины какой-то рецепт с составом питья…
Суворов, смекнув, в чем дело, спустя некоторое время, желая похвастать своей осведомленностью, поведал о дворцовых делах знакомому купцу Ершову, а тот приятелю Ширяеву. Последний решил, что о столь важной тайне следует знать Петру. Он накропал подметное письмо без подписи. Второго ноября Петр, страшно побледнев, читал его послание.
Когда ведающий Тайной канцелярией Его Императорского Величества Андрей Иванович Ушаков, поднаторевший в делах тайных и явных, получил приказ Петра начать сыск, он, поняв, о чем речь, несколько раз перекрестился и, не мешкая, позвал подручных…
Историк М.Н. Семевский, еще в прошлом веке изучая государственный архив, обнаружил «Дело Виллима Монса». Он тщательно изучил бумаги, долгие годы хранившиеся в глубокой тайне, и был изрядно удивлен, что к делу причастен знаменитый шут Балакирев. В 1862 году он издал книгу под названием «Семейство Монсов», с той поры ни разу не переиздававшуюся. Из опубликованных им протоколов допросов видно, что на них присутствовал сам Петр.
Когда приволокли Балакирева, он приказал вздернуть шута на дыбу. Повисев некоторое время на вывороченных руках, тот повинился, что возил письмо из Преображенского в Покровское к Монсу, а что было писано в том письме, ему неведомо.
Суворов и другие были словоохотливее, и Петр понял, что подметное письмо не врет.
Следствие особый интерес проявило к переписке Монса и «синенькому письму с рецептом питья».
Однако конечный результат остался неясен, т.к. многие бумаги оказались уничтожены. Ушаков по приказу Петра (после разговора с Екатериной) не стал более затрагивать любовную сторону дела, а переключил сыск на государственную деятельность Виллима Монса, который оказался великим взяточником.
Виллим Монс не брезговал ничем. Вдовы снимали с себя серьги, а бедные офицеры уступали ему свои последние рубли!
Список взяток был огромным, его оказалось достаточно, чтобы вынести суровый приговор. В заключении суда говорилось:
«А поскольку Монс по делу явился во многих взятках и вступал за оные дела, не принадлежащие ему… мы согласно приговорили учинить ему Виллиму Монсу – смертную казнь. А имение его, движимое и недвижимое взять на Его Императорское Величество».
Остальных, проходивших по этому делу, подвергли суровым наказаниям. Матрену Бланк – били кнутом и сослали в Тобольск. Егора Столетова били батогами и сослали в Рогервик на 10 лет. Пажа Соловова (12 лет) высекли в суде и записали в солдаты. Шуту и камер-лакею Балакиреву досталось менее всех. Ему дали 60 палок и отправили в Рогервик на 3 года.
Приговор подписали: И. Бахметев, А. Бредихин, И. Мамонов, А. Ушаков, И. Мусин-Пушкин, И. Бутурлин и Яков Брюс. На полях Петр начертал: «Учинить по приговору».
16 ноября 1724 года в десятом часу пополудни на Троицкой площади была произведена экзекуция. Пастор Нацциус сделал последнее напутствие Виллиму Монсу. Держась за руки, они поднялись на помост, где стоял у плахи палач. Монс побелевшими губами шептал последнюю молитву. Его шатало. Перед плахой он опустился на колени, Нацциус его осенил крестным знамением и отошел в сторону. Монс положил голову на плаху, обняв ее руками.
Когда все было кончено, голову с полуоткрытыми глазами пиками водрузили на длинный шест. Обезглавленное тело пиками забросили на колесо, прибитое к гладкому бревну, где его быстро присыпал снег. Говорят, на второй день Петр, сидя в карете с Екатериной, приказал вознице завернуть на Троицкую площадь. У эшафота карета остановилась. Он открыл дверцу и молча смотрел на голову Монса. Екатерина также смотрела на вершину шеста, однако выдержала пытку, не дрогнула и не расплакалась…
В ноябре же Петр дает распоряжение провести ревизию всех дел Александра Меншикова, что, несомненно, являлось для последнего плохим предзнаменованием. Еще в 1711 году начато было следствие, которое с первых же шагов выявило крупные хищения светлейшего. Однако следствие тогда прекратили так же неожиданно, как и начали. На недоуменный вопрос о причинах такого решения Петр с великой тоской в голосе отвечал: «Он мой друг…»
Конечно, через доносителей, во время частых отлучек Петра, Меншиков отлично был осведомлен о любовных интригах Екатерины – и все это от него скрыл! Почему? Смотрел вперед и видел ее на престоле, а себя рядом, вершителем всех дел? Молчание Меншикова Петр мог воспринять только как предательство и немедленно отринул его от себя.
Великий преобразователь России оказался в тяжелом до жути положении: Петра предали все – жена, друг, даже шут! Настоящей дружбе Петр придавал большое значение.
«Блажен муж, иже обретет друга истинного, – часто цитировал он из полюбившейся ему книги «Советы премудрости». «Несть вещи дражайшей, как друг доброй всии разумной. Оной друг перевешивает все злато и серебро света!» После смерти Лефорта, которого он считал другом и смерть которого долго оплакивал, «верным другом» стал Меншиков.
Трагедия Петра была тем более велика, что жить ему осталось лишь несколько месяцев, а наследник еще не был назван, завещание не написано… Скоро Петр почувствовал сильное недомогание. Вызванный лейб-медик Блументрост был крайне обеспокоен. Петра рвало желчью, руки и ноги посинели, временами он корчился от болей. Петра соборовали. 22 января поставили алтарь у спальни. Когда Петр позвал принцессу Анну, ее искали больше часа, хотя она находилась во дворце. Петр умирал, и около него не было никого, кто бы положил на голову компресс, смочил водой потрескавшиеся пересохшие губы, вытер бы обильный пот…
26 января, следуя древнему обычаю, выпустили из тюрем всех колодников. 27 января Петр скончался. Около него лежала грифельная доска с недописанным завещанием: «Оставить все…»
Для многих придворных, знакомых с последними событиями, было слишком очевидно, что для Екатерины и Меншикова смерть царя произошла весьма кстати. В народе же от вести о смерти Петра «такой учинился вой, крик, вопль слезный, что… воистину такого ужаса народного… николи не видали и не слыхали!»
Через сорок суток, 8 марта, состоялось погребение. Великой болью отозвались в сердцах людских слова Феофана Прокоповича, сказанные под гулкими сводами Петропавловского собора над гробом Петра: «Россияне, что делаем, кого хороним? Петра Великого хороним!»
После Петра
Едва кончился официальный траур, во дворце Екатерины начались нескончаемые увеселения и «машкерады». Сев на российский престол, с помощью Меншикова, Екатерина самоустранилась от государственных дел, равнодушно взирая на начавшуюся борьбу между П.А. Толстым, А.М. Девиером, А.И. Остерманом и другими из вновь созданного Верховного совета с всемогущим Меншиковым во главе.
Однако она не забыла о шуте Балакиреве и сразу послала с нарочным указ об его освобождении и возвращении ко двору. Изрядно помятый при розыске в Тайной канцелярии, Балакирев поседел. Вывороченные на дыбе суставы немилосердно ныли. Шутить теперь стал с оглядкой и тщательно избегал встреч с Меншиковым.
Скоро Екатерина занемогла. Балакирев видел, как торопился Меншиков расправиться со своими противниками, желавшими посадить на престол российский одну из дочерей Петра, а не внука, справедливо опасавшийся, что в будущем он отомстит за смерть отца – царевича Алексея. Меншиков, как всегда, снедаемый непомерным тщеславием, предчувствуя скорую кончину Екатерины, решился на невероятную авантюру. Он решил обеспечить престол Петру II, женить его на своей дочери и тем самым навсегда породниться с царской династией. И пусть потомки знают, как московский бойкий мальчишка, продавец горячих пирожков, смог вознестись столь высоко (хотя так и не одолел грамоты!).
На глазах Балакирева разыгралась драма, какую не увидишь и в дурном сне. Графа Петра Андреевича Толстого, чью умную голову так высоко ценил Петр, Меншиков сослал на Соловки вместе с сыном и сгноил в тюрьме, предварительно лишив всех чинов и званий. Графа Антона Мануиловича Девиера, женатого на его родной сестре Анне, несмотря на ее слезы и стенания, отправил в Сибирь, в Тобольск. Позже выслал и ее с четырьмя детьми. Расправился и с другими «верховниками».
Балакирев долго помнил субботний день, пасмурный и ветреный, 6 мая 1727 года, первую половину дня Учрежденный суд слушал в полном составе «экстракты», неуклюже перечисляющие надуманные вины подсудимых. В третьем часу подписали «сентенции», затем поехали к умирающей императрице на доклад, непрестанно подгоняемые Меншиковым. Слабеющей рукой Екатерина в постели подписала подсунутый ей Меншиковым указ, а в 9-м часу вечера она неожиданно скоропостижно скончалась. Во дворце началась суматоха. Меншиков же был занят отправкой только что осужденных «в ссылку за караулом в указанные места». Знать бы ему, что впереди его ждет судьба еще более горькая!
При дворе Анны Иоанновны
В 1739 году, в конце царствования Анны Иоанновны, Ивану Балакиреву было сорок лет, но шутки его заметно потеряли дерзость и остроту. Видимо, он не забывал о застенке и о вывороченных суставах. Они стали добродушны и незлобивы.
Анна Иоанновна, обладая «мужским ударом», неплохо играла в биллиард, входивший тогда в моду, и обожала игру в карты. Еще она любила стрелять из мушкетов прямо из окон дворца по голубям, воронам и галкам.
Вечерами, изнывая от безделья, императрица приглашала сановников побогаче перекинуться в картишки. Игра шла на перстни, приглянувшиеся ей, на золотишко. Играли до поздней ночи при многих свечах…
Однажды, будучи в хорошем настроении, императрица предложила сыграть партию в винт и Балакиреву. Иван тотчас охотно согласился, но поставил условие, что будет играть только «на интерес», ибо ему, как солдату, не положено иметь при себе золото и бриллианты.
За карточный столик приглашены были еще два партнера, и Балакирев объяснил новые правила карточной игры. Проигравший партию должен был снять с себя какую-нибудь деталь одежды: камзол, парик, пряжки, башмаки и т.д. Императрице разрешалось, на ее усмотрение, либо откупаться содержимым ее кошелька, либо лентой, табакеркой и т.п.
Игра началась. Балакирев оказался неплохим игроком, и скоро оба приглашенных за столик сановника остались в нижнем белье и даже без чулков. Императрица Анна Иоанновна смеялась так, что ее громкий басовитый смех отдавался эхом в комнатах дворца.
Весьма довольная, она распорядилась впредь, в виде особой милости, отпускать Ивану Балакиреву обеды из царской кухни…
Как-то императрица сильно рассердилась. Ей донесли, что народ недоволен большими налогами и ропщет.
– Напрасно гневаешься, матушка-государыня, – обратился к ней Балакирев, – надо же народу иметь какое-нибудь утешение за свои деньги!
Анна Иоанновна изволила улыбнуться на слова Балакирева, но, удаляясь, оглянулась и погрозила ему пальцем.
Малоподвижная, любившая хорошо поесть, быстро располневшая императрица окружила себя большим числом (более пятидесяти!) шутов и шутих. Эта странная и шумная толпа, устраивавшая бестолковую возню на дорогом паркете, заставляла иностранцев изрядно удивляться и презрительно кривить губы. Особенно шокировало иностранцев то, что в шутах ходили люди знатных фамилий, безжалостно униженные из-за прихоти императрицы.
Князь Голицын-Квасник, князь Никита Волконский, граф Апраксин пихались локтями в толпе прочих «дураков» или с ужимками танцевали друг с другом менуэты под музыку.
Достаточно сказать, что князь Михаил Алексеевич Голицын (1697—1775), прозванный «квасником», в 1714 году был послан Петром I в числе других дворян-недорослей за границу, слушал лекции в Сорбонне, получил блестящее образование и затем был аккредитован послом в Италии. Там его угораздило влюбиться в хорошенькую итальянку. Невеста, будучи набожной католичкой, поставила условие, чтобы он принял католичество, пусть тайно.
Михаил Алексеевич, изнемогавший от любви, не без колебаний согласился. Какое-то время он был счастлив с молодой женой, да нашелся завистник и накропал донос в Петербург.
Анна Иоанновна, узнав о грехе князя, вошла в великий гнев и, скорая на расправу, отозвала посла в столицу и повелела умному князю занять место среди «дураков». Голицыну пришлось повиноваться.
С середины 1730-х годов шутов и шутих во дворце насчитывалось около 40 человек. Анна Иоанновна учредила даже особый шутовской орден «Святого Бенедикта», носившийся в петлице на красной ленте.
Особым расположением у Анны Иоанновны пользовались шутихи калмычка Авдотья Буженинова, Мать Безножка, Дарья Долгая, Акулина Лобанова (Кулема-дурка), Баба Матрена (мастерица сквернословить), Екатерина Кокша, Девушка Дворянка, а кроме них еще карлицы, татарчата, калмычата, арабки, персиянки, монахини, разные старухи, называвшиеся сидельницами, и т.п.
Обычно, едва проснувшись, императрица велела звать шутих, которые обязаны были без умолку болтать и кривляться. Лежа под пуховой периной, она, сонно улыбаясь, внимала их трескотне.
В 1739 году Анна Иоанновна устроила знаменитую шутовскую свадьбу в Ледяном доме, где все, включая пушки, были отлиты из льда, и которая со всеми подробностями описана историками. В невесты князю Голицыну из своей челяди императрица выбрала шутиху калмычку Евдокию Буженинову. Состоялась странная, невиданная доселе свадьба, глядя на которую Иван Балакирев горько пошутил: «Покорному дитяте и такая свадьба кстати».
В следующем году Анна Иоанновна скончалась. Князь Голицын зашвырнул подальше свой дурацкий колпак и, забрав жену-калмычку, уехал в свое родовое имение Братовщину. Здесь, вдали от двора, он занялся образованием своих сыновей, обучил их истории, математике, языкам, философии, к которой имел слабость еще в Сорбонне. В результате подарил России хороших государственных деятелей…
Что касается Ивана Балакирева, то архивные документы о нем скупо сообщают, что раз в три-четыре года за счет казны ему шили мундир преображенца и он ведал хозяйственными делами, получал продукты для дворцовых слуг, хлопотал на праздниках, заботился о воспитании и обучении своих детей.
Пришедшие к власти новые фавориты и временщики с удивлением узнавали, что скромный и малоприметный Балакирев – знаменитый шут Петра.
Уже при императрице Елизавете Петровне он попросил «абшид» (отставку) и, получив небольшой пансион, отбыл в Костромскую губернию в свое захудалое имение, где и умер в возрасте 64 лет в 1763 году.
Знаменитый композитор, пианист и дирижер Милий Алексеевич Балакирев, по утверждению некоторых историков, принадлежал к роду знаменитого шута, но сам Милий Алексеевич об этом никаких сведений или семейных преданий не оставил.
<< Назад Вперёд>>
Просмотров: 2096